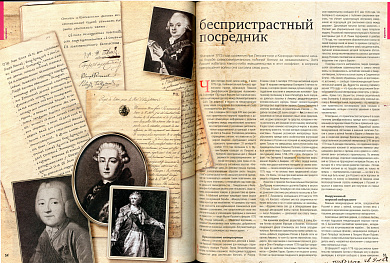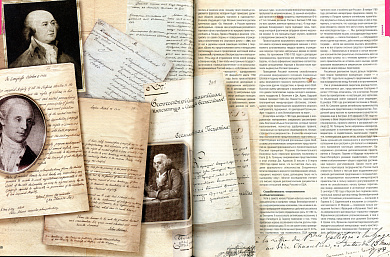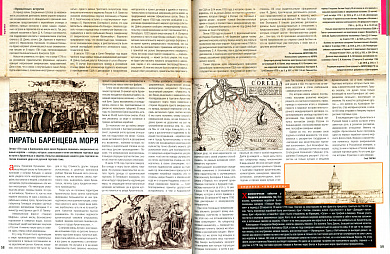Ю.В.Басенко. Россия и война за независимость в США 1779-1783 гг.
19 апреля 1775 г. сражения при Лексингтоне и Конкорде положили начало вооруженной борьбе североамериканских колоний Англии за независимость. Полгода спустя, 4 июля 1775 г., Континентальный конгресс единогласно принял написанную Томасом Джефферсоном Декларацию независимости. 3 сентября 1783 г. в Версале был подписан окончательный мирный договор между Великобританией и США. Так родилось и вышло на международную арену новое государство. Его появление не стало неожиданностью для России.
Уже с середины 60-х годов XVIII в. российское правительство получало подробную и довольно объективную информацию о развитии конфликта между американскими колонистами и метрополией от российских дипломатических представителей за границей и, прежде всего, в Лондоне. Российские дипломаты справедливо считали, что известия из Северной Америки «заслуживают всякого сериозного примечания». 31 октября/11 ноября 1774 г. посланник А.С.Мусин-Пушкин сообщал из Лондона в Коллегию иностранных дел о твердой решимости североамериканских колоний отстаивать свои права от посягательств английских властей: «Вчера полученные здесь из Америки письма подтверждают доказательнейшим образом сколь твердое, столь и единогласное почти тамошних жителей намерение не повиноваться никаким таким повелениям, кои хотя бы мало клонились к утверждению над ними права здешнего законодательства... Генеральным в Филадельфии конгрессом решено уже не вывозить сюда никаких американских товаров, а здешних тамо не принимать». Российский дипломат предвидел также скорое начало вооруженной борьбы. «Междоусобная с ними война кажется тем неизбежнее, что доведены они через то до крайности или необиновенно повиноваться всем здешним узаконениям, или супротивляться оным яко отяготительным и утесняющим природные и законные их правости,» - писал Мусин-Пушкин в феврале 1775 г. «Народ тамошний, - продолжал посланник, - оставляя обыкновенные свои промыслы, добровольно упражняется в военных эксерсициях. Антузиастский дух сей заражает равномерно все чины и звания...».
Именно с началом вооруженных действий в Северной Америке большое значение для воюющих сторон приобрела позиция России. Перед Великобританией встала проблема союзников. Необходимую помощь лондонский двор рассчитывал получить от России. В связи с этим 1 сентября 1775 г. английский король Георг III направил императрице Екатерине II личное послание, в котором просил направить русских солдат «для подавления восстания в американских колониях». Британскому посланнику в Санкт-Петербурге было поручено добиться посылки в Америку 20-тысячного вспомогательного корпуса. Проект соответствующего договора был подготовлен заранее. Однако Екатерина II ответила вежливым, но решительным отказом: «...Подобное пособие (20 тысяч солдат - авт.) и место его назначения не только изменяют смысл моих предложений, но даже превосходят те средства, которыми я могу располагать для оказания услуги вашему величеству. Я едва только начинаю наслаждаться миром, и вашему величеству известно, что моя империя нуждается в спокойствии». Решение российской императрицы было обусловлено прежде всего особенностями внутренней обстановки в России и ее позиции на международной арене. Только что завершилась крестьянская война под предводительством Е.Пугачева, совсем недавно был заключен мир с Турцией, положивший конец русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Интересен тот факт, что Екатерина II предвидела последствия вооруженной борьбы в Америке. «От всего сердца желаю, чтобы мои друзья англичане поладили со своими колониями, - писала императрица в одном из писем летом 1775 г., - но сколько моих предсказаний сбывалось, что боюсь, что еще при моей жизни нам придется увидеть отпадение Америки от Европы».
Известие о принятии Континентальным конгрессом Декларации независимости достигло Европы в августе 1776 г. В Санкт-Петербурге об этом событии узнали из донесения советника российского посольства в Лондоне В.Г.Лизакевича, сообщившего 2/13 августа 1776 г., что конгресс «объявил уже все соединенные колонии вольными и ни от какой державы не зависимыми». «Издание пиесы сей, да и обнародование формальной декларацией войны против Великобритании, - писал Лизакевич, - доказывает всю отвагу тамошних начальников».
Тем временем конфликт расширялся. В войну на стороне США вступили Франция и Испания, положение Великобритании становилось все более затруднительным. Английское правительство всеми силами пыталось добиться поддержки России в борьбе если не против Америки, то хотя бы против европейских государств. Для переговоров о заключении союзного договора в Санкт-Петербург в начале 1778 г. был направлен один из наиболее талантливых британских дипломатов - Джеймс Гаррис. Однако и он не достиг успеха. В ответ на предложение лондонского двора императорское правительство сообщило 6/17 мая 1778 г., что Екатерина II «вынуждена с глубоким сожалением признать, что считает существующую обстановку совершенно не подходящей для заключения союза между дворами». Дальнейшие попытки Англии заключить с Россией уже оборонительный союз также потерпели неудачу. Российский первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел Н.И.Панин1 подчеркивал в декабре 1779 г., что «заключение оборонительного союза по самой природе своей не может по времени совпадать с войной фактической, особенно такой, как данная война, причиной возникновения которой послужили обстоятельства, всегда исключавшиеся из союзных договоров между Россией и Англией как не имеющие отношения к владениям этих стран в Европе».
Политика строгого нейтралитета, твердо проводившаяся российским правительством с самого начала войны за независимость английских колоний в Северной Америке, получила высокую оценку в Соединенных Штатах. «Мы немало обрадованы узнать из достоверного источника, - сообщал главнокомандующий Континентальной армией Дж.Вашингтон маркизу Лафайету весной 1779 г., - что просьбы и предложения Великобритании русской императрице отвергнуты с презрением». Кроме того Вашингтон, отмечая решительный отказ Екатерины II заключить какой-либо союзный договор с Великобританией, подчеркивал, что императорское правительство мотивировало свою позицию в «выражениях, носящих отпечаток уважения к правам человечества».
Естественно, что правительство Екатерины II в своей политике руководствовалось прежде всего государственными интересами самой России и правильной оценкой международного положения. Подробный анализ международной обстановки и внешней политики России в связи с войной Англии в Европе и Америке был дан в секретном докладе Коллегии иностранных дел, представленном российской императрице 5/16 августа 1779 г. В докладе отмечалось, что отделение североамериканских колоний от метрополии является свершившимся фактом и причина этого кроется в «собственной вине» английского правительства. По мнению авторов доклада, отделение североамериканских колоний не только не противоречит интересам России, но и выгодно ей с точки зрения развития торговли: «Потеря Англией колоний ее на твердой земле не только не вредна, — подчеркивалось в докладе, — но паче и полезна еще быть может для России в части торговых ее интересов, по колику со временем из Америки новая безпосредственная отрасль коммерции с Россией открыться и завестись может для получения из первых рук взаимных нужд».
Важным международным актом, предпринятым Россией в связи с войной, которую Англия вела с США и европейскими державами, явилось провозглашение декларации о вооруженном нейтралитете.
Агрессивные действия держав и особенно Англии на море подрывали международную морскую торговлю. О бесчинствах «английских ароматоров», нападавших «на все встречавшиеся им корабли... без всякого почтения к разным флагам», неоднократно сообщал в Санкт-Петербург посланник в Лондоне Мусин-Пушкин. В связи с этими событиями британским властям приходилось иметь «неприятные изъяснения» с представителями нейтральных стран.
28 февраля/11 марта 1779 г. российское правительство направило Англии и Франции ноту в форме декларации, в которой сообщало о своем намерении послать в Северное море «эскадру своих линейных кораблей и фрегатов, которым будет приказано должным образом защищать торговлю и судоходство». В начале следующего года Испания захватила русское купеческое судно «Св.Николай», и Россия признала необходимым «прежде чем оскорбление российского торгового флага преобразится во вредную привычку» сообщить в Лондон, Париж и Мадрид о решении «употребить со своей стороны к совершенному ограждению и обеспечению его (торгового флота - авт.) все от нас и державы нашей зависящие пособия с твердым, однако же, предположением свято и ненарушимо согласовывать оные в продолжение настоящей войны с правилами строжайшего беспристрастия и нейтралитета». Речь шла об отправлении летом новой эскадры в Северное море. С тем, чтобы иностранные государства не впали в «ложные заключения» и не использовали принимаемые Россией меры в «собственных своих изворотах», одновременно 28 февраля/10 марта 1780 г. была провозглашена знаменитая декларация о вооруженном нейтралитете. В декларации говорилось: 1) нейтральные суда могут свободно посещать порты воюющих держав; 2) собственность воюющих держав на нейтральных судах, за исключением военной контрабанды, пропускается неприкосновенно; 3) военной контрабандой признаются только предметы, перечисленные 10-й и 11-й статьями договора России с Англией 1766 г. (т.е., оружие, военные припасы и пр.); 4) под определение блокируемого порта подпадает лишь порт, вход в который фактически затруднен военно-морскими силами; 5) эти принципы будут служить правилом в определении законности призов.
Провозглашение вооруженного морского нейтралитета имело огромное международное значение: с этого момента устанавливались твердые правила, ограждавшие морскую торговлю нейтральных держав во время войны. На протяжении 1780 - 1783 гг. к декларации присоединились практически все нейтральные страны Европы, что было официально закреплено соответствующими соглашениями. Франция и Испания также признали выдвинутые Россией принципы.
Проводимая Россией политика способствовала улучшению международного положения Соединенных Штатов и подрыву морского могущества Англии. Принципы вооруженного морского нейтралитета были выгодны всем другим государствам и, прежде всего, США. Высокую оценку декларации о вооруженном нейтралитете давали политические лидеры молодого американского государства Б.Франклин2 и Дж. Адамс3. Будущий первый президент США Дж. Вашингтон, характеризуя благоприятную международную обстановку, сложившуюся после провозглашения вооруженного морского нейтралитета, подчеркивал, что декларация России унижает «гордость и силу Великобритании на море».
В сентябре - октябре 1780 г. декларация о вооруженном нейтралитете специально рассматривалась Континентальным конгрессом США, который принял постановление, полностью одобрявшее правила, «основанные на принципах справедливости, беспристрастности и умеренности». В качестве конкретных мер постановление предусматривало подготовку соответствующих инструкций для военных судов США, а также уполномочивало американских представителей за границей присоединиться к провозглашенным Россией принципам. Решение Континентального конгресса было переслано русскому посланнику в Гааге Д.А.Голицыну американским представителем в этой столице Дж.Адамсом. В письме от 8 марта 1781 г. Адамс писал, что он счастлив «быть орудием формального обязательства Соединенных Штатов Америки в верности преобразованию международного морского права, делающему такую честь нынешнему веку». Многие исследователи считают это письмо первым дипломатическим документом в истории отношений между Россией и США.
Хотя с самого начала Россия избегала какого-либо вмешательства в конфликт между Великобританией и ее североамериканскими колониями, тем не менее в вопросе прекращения вооруженных действий российское правительство сыграло определенную роль. В 1780 г. Екатерина II высказывала английскому посланнику в Санкт-Петербурге Д.Гаррису пожелание о том, чтобы британская корона возобновила попытки достичь перемирия с американцами. В это же время планы примирения развивал глава Коллегии иностранных дел Н.И.Панин, подчеркивая, что независимость США выгодна «для всех стран, и особенно для России». В ноябре 1780 г. российская императрица предписала своему посланнику в Лондоне привести английскому правительству аргументы в пользу заключения мира с США и подчеркнуть, в частности, что «расходы оной кампании дороже обходятся, нежели чего могут стоить приобретаемые напоследок выгоды». «...Мы, руководствовавшись тут человеколюбием нашим, сострадающим бедствования народов,- писала Екатерина II, — побуждаемся оным и далее еще желать, дабы воюющие между собой государи ... могли как наискорее изыскать резонабельные и на все стороны сносные средства к примирению своему...». Первоначально в вопросе о статусе восставших колоний Англия решительно отказывалась идти на какие-либо уступки, но с течением времени у британского правительства не осталось иного выхода, кроме признания независимости американских колоний и согласия на начало мирных переговоров.
Российская дипломатия пошла дальше теоретических планов примирения враждующих сторон - в 1780-1781 гг. было выдвинуто предложение о мирном посредничестве между Англией и ее противниками. Уже в упоминавшемся секретном докладе Коллегии иностранных дел, представленном Екатерине II летом 1779 г., отмечалось, что в интересах России было бы приобретение «в настоящей, все части света объемлющей войне, завидной роли медияции». В декабре 1780 г. российский посланник в Лондоне И.М.Симолин сделал английскому правительству официальное представление о посредничестве. Лондонский двор настоял на привлечении в качестве посредника еще и Австрии. 4/15 февраля 1781 г. посланнику в Вене (первоначально переговоры о мире планировалось провести именно в австрийской столице) Д.М.Голицыну были направлены императорский рескрипт и полномочия выступать «в качестве медиатора» и содействовать заключению «трактатов, конвенций или других актов, которые будут признаны нужными для совершенного и окончательного соглашения всех распрей и для полного и совершенного примирения настоящих замешательств». Одновременно российские дипломатические представители в Лондоне, Париже и Мадриде получили из Санкт-Петербурга указание содействовать «внушениями и объяснениями» общего характера достижению мирного урегулирования. Однако после длительных переговоров посредничество России было отвергнуто. Вместе с тем сам факт выдвижения российской дипломатией предложения о посредничестве и неоднократные выступления императорского правительства в пользу мирного урегулирования не могли не способствовать началу прямых переговоров между американской и английской сторонами.
3 сентября 1783 г. в Версале был подписан окончательный мирный договор между Великобританией и США. Российские уполномоченные - посланник в Париже И.С.Барятинский и посланник со специальной миссией А.И.Морков - подписали только договоры с Англией, Францией и Испанией. Текст договора был «приватно» передан Франклином российским уполномоченным, а они, в свою очередь, представили этот документ Екатерине II. Кроме того Франклин переслал Барятинскому для передачи российской императрице «книгу-конституцию Соединенных Американских Провинций и медаль, выбитую на их независимость».
В период войны Соединенных Штатов за независимость российские дипломаты имели строгие предписания воздерживаться от официального признания американских представителей в европейских столицах и избегать прямых контактов с ними, однако «приватные» встречи и переписка все же имели место. Так, российский посланник в Гааге Д.А.Голицын систематически поддерживал контакты с американскими агентами, сначала с Ш.Дюма, затем с Дж.Адамсом, и переписывался с Франклином. Напомним, что именно Голицыну Адаме направил упоминавшееся выше знаменательное письмо от 8 марта 1781 г., препровождавшее протокол Континентального конгресса США.
Нельзя не упомянуть тот факт, что в конце 1779 г. российское правительство формально нарушило принцип непризнания американских представителей. Дело в том, что в связи с полученными в Санкт-Петербурге известиями о появлении иностранных «нераспознатых» судов в районе Чукотского полуострова глава внешнеполитического ведомства России Н.И.Панин, по указанию императрицы поручил посланнику в Париже И.С.Барятинскому вступить в «партикулярные» переговоры с Б.Франклином. Екатерина II, считая, что суда могли быть «американские и из Канады», повелела сделать «отзыв о подходе оных к помянутым берегам к находящемуся в месте пребывания Вашего поверенному от американских селений Франклейну». Франклин предположил тогда, что неизвестные суда, появившиеся на тихоокеанском севере, в действительности были третьей экспедицией знаменитого английского мореплавателя Д.Кука.
В августе 1781 г. в Санкт-Петербург под видом частного лица прибыл первый американский дипломат Ф.Дейна, бывший депутат Конгресса от штата Массачусетс. В случае благоприятного приема в российской столице Дейна был уполномочен подписать конвенцию о присоединении США к декларации о вооруженном нейтралитете и проект договора о дружбе и торговле. Чрезвычайно осторожный американец долгое время не предпринимал никаких официальных шагов. Лишь 24 февраля/7 марта 1783 г., получив сообщение о заключении предварительного мирного договора с Англией, Дейна решился сообщить императорскому правительству о своем назначении на пост посланника США в Петербурге. 12/23 апреля вице-канцлер И.А.Остерман встретился с ним и в ходе беседы сообщил, что до подписания окончательного мирного договора Екатерина II не может принять американского посланника, так как это было бы несовместимо с правилами нейтралитета и с принятой ею ролью беспристрастного посредника. «Коль же скоро оный трактат совершится, — подчеркнул вице-канцлер, — может он быть уверен, что тогда не будет уже настоять никакого затруднения к заведению таково с его начальниками беспосредственного сношения». В этом же смысле был составлен и официальный ответ российского правительства представителю США от 3/14 июня 1783 г., в котором однако говорилось, что не только Дейна, но и все его соотечественники, которые приедут в Россию «по торговым и другим делам», встретят «самый благожелательный прием и защиту в соответствии с международным правом». По решению Конгресса в том же году Дейна был отозван из Санкт-Петербурга.
Летом 1783 г. посланник И.С.Барятинский писал из Парижа Екатерине II, что Франклин «всему дипломатическому корпусу сделал визиту; все послы и посланники ему оную отдали». Когда же в июне 1784 г. американский представитель в Гааге Адамс сообщил посланнику С.А.Колычеву, как и другим иностранным дипломатам, о подписании окончательного мирного договора, российский представитель не уклонился от ответного визита.
Таким образом, хотя официального признания российским правительством США как независимого государства не произошло, признание де-факто состоялось. Об этом свидетельствует официальный ответ Ф.Дейне, практическая деятельность российских представителей за границей и, наконец, инструкции, полученные ими осенью 1784 г. По указанию Екатерины II, отныне российские дипломаты должны были руководствоваться в отношениях с представителями США общепринятыми нормами, которым следуют другие «беспристрастные державы... тем паче, что по признанию независимости областей Американских со стороны самой Англии ничто не препятствует уже поступать с ними как и с другими республиками».
Ю.В.Басенко
- Панин Никита Иванович (1718-1783), граф, один из ближайших советников Екатерины II, первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел в 1763-1781 гг.
- Бенджамин Франклин (1706-1790), американский ученый-энциклопедист, представитель колоний в Лондоне (1765-1775), представитель Континентального конгресса в Париже, уполномоченный по ведению переговоров о заключении мирного и торгового договоров (1776-1778), посланник в Париже (1778-1785), уполномоченный на переговорах с Великобританией (1782).
- Джон Адамс (1735-1826), представитель Континентального конгресса в Париже (1778-1780, 1782), в Гааге (1780-1782), уполномоченный на переговорах о мире с Великобританией (1781-1782), посланник в Гааге (с апреля 1782 ), в Лондоне (1785-1788), вице-президент (1789-1797), президент США (1797-1801).